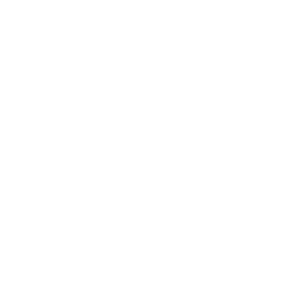
Яна Некрасова
Круговорот
(физиологический очерк)
– Сонечка, сходи за лекарством в аптеку, что-то худо мне совсем…
– Мам, одиннадцать вечера, темно уже, куда я пойду?
– Рецепт в сумочке моей, сходи, пожалуйста…
– Так его ж неделю назад выписали, я тебя еле в больницу затащила! Ты все это время не принимала лекарства?!
– Я всё молилась, доченька, всё молилась о здоровье… Где ж я согрешила-то так… Ой, Господи…
Осень. Вечер. Из маленького телевизора, заботливо накрытого кружевной салфеткой, в унисон со свистом чайника на кухне доносятся крики о загнивающем Западе и бездуховной Америке. Пожилая женщина, лежа на диване, держится за сердце и мелко крестится, бормоча очередную молитву о том, что да простит ее Бог, что это не вера ее ослабла, а просто… Просто дочка ругается, вот и надо за лекарством сходить, чтобы не ругалась, спаси Господь ее душу.
Соне двадцать. Она учится на экономиста в местном вузе, подрабатывает кассиршей в продуктовом и живет с мамой, потому что ей нужен уход и лекарства (хотя порой кажется, что всё это нужно только самой Соне), а денег нет. Отец спился года два назад. Хуже стало или лучше ̶ сложно сказать, но теперь мизерная пенсия тратится не на водку, а на лекарства. О разводе речь никогда не шла: это грех, бог терпел и нам велел и всё такое. Проблемы с сердцем у матери начались довольно давно, но она терпела, молилась и отмалчивалась, пока ее с инфарктом не увезли на скорой. Хорошо, что Соню с пар отпустили пораньше… С огромным трудом удалось уговорить ее сходить к врачу. И тут – на тебе: всё это время рецепт пролеживал на дне сумки!
– Так что, дочь, сходишь до аптеки-то?
Они живут на забытой богом (вопреки всем стараниям матери) окраине, и по-хорошему после восьми вечера на улицу выходить не стоит… Но вдруг утром будет уже поздно? Если уж мама, со всей ее склонностью терпеть и молиться до последнего, просит сходить за лекарством, значит, дело действительно плохо.
– Схожу, схожу.
Тёмные джинсы. Футболка. Черная толстовка. Кроссовки. Смыть макияж, собрать волосы, убрать под капюшон. Что еще… Маленькую поясную сумку надеть через плечо, под кофту, убрать туда телефон, чтобы не светить лишний раз, деньги под чехол… Ключи тоже в сумку… Нет, ключи надо поближе. Мало ли. Давно уже пора перцовку купить… Рецепт! Чуть не забыла. Ну, с богом.
Фонари в их дворе не работают уже очень давно, лампочки менять никто не торопится, как и перекладывать разбитую плитку, халтурно уложенную в рамках какого-то древнего проекта по благоустройству. Это тебе не Москва… Тут и там выбоины, которые нужно старательно обходить даже днем. Как бы ноги не переломать…
Из-за угла раздался противный свист и пьяный хохот. Нет. Нет, нет, нет, нет! Соня, спотыкаясь на разбитой лестнице, ускорила шаг. Парни, достаточно смелые, чтобы выходить из дома в одиннадцать вечера, не натягивают на лицо капюшон толстовки и не держат в кармане судорожно сжатые в кулаке ключи.
– Куда спешишь, красотка? Шамаханская царица, покажи личико!
Сзади, совсем рядом, взрывается хохот. Звенит, разбиваясь о стену пятиэтажки, бутылка, и Соня, даже будучи убежденной атеисткой, готова молиться всем богам, чтобы она, ускоренная адреналином и почти животным страхом за свою жизнь, бежала быстрее, чем эти пьяницы с многолетним стажем. И уже почти у выхода на более-менее освещенную улицу перед ней как из-под земли вырос, пребольно ударившись в колено и заставив притормозить буквально на пару секунд, одинокий столбик. Когда-то он был частью маленького заборчика, огораживающего цветник у подъезда. Недолго простоял…
Истошный крик оборвался сдавленным мычанием. Никто не выйдет. Люди, простые люди, которым завтра к восьми на работу, и так уже засидевшиеся, предпочтут даже не выглядывать в окно, чтобы потом совесть не мучила, а кто-то и вовсе сочтет крики посреди ночи не более чем пьяными воплями и даже не обратит внимания. В паре окон недовольно задернули шторы. Двор окончательно погрузился во тьму.
Женщина-фармацевт с непониманием, а потом и с откровенным ужасом оглядела мятую бумажку со штампом и подписью, дрожавшую в тонкой руке с обломанными ногтями. Под носом у посетительницы запеклась кровь, спутанные волосы свисали на лицо, но она не обращала на них никакого внимания. Её колотило, как от лихорадки. Пустой взгляд уплывал куда-то в сторону.
– Вам, может, полицию вызвать? Кто это вас…
– Нет-нет-нет, ничего не надо, – как-то судорожно перебила девушка, – еще перекись и бинт… Стерильный…
– Да погодите, я вам так сейчас всё обработаю, вот, идите сюда, ко мне, у меня тут стульчик… Господи… В самом деле, может, вам скорую лучше? Садитесь, садитесь скорее… Сейчас воды налью…
Таких душераздирающих рыданий немолодая уже Мария не слышала никогда. Это была смесь отчаяния, ужаса и безысходности, много лет копившихся в хрупкой искалеченной душе, а сейчас умноженных в десятки раз чем-то по-настоящему страшным. Изломанная, скомканная, съежившаяся на стуле фигура девушки, зажимающей себе рот трясущимися руками, со слезами, льющимися по опухшим от ударов щекам, еще долго стояла у нее перед глазами.
В полиции Соню настоятельно попросили не писать заявление: во-первых, «сама виновата, нечего было ночью по улице бродить», во-вторых, «побои надо было сразу снимать и на медэкспертизу идти, сейчас поздно уже», а в-третьих, «как мы их, по-твоему, искать должны без описания – по запаху?» И девушка, с того вечера будто выпавшая в какой-то растерянный транс, вернулась домой почти ни с чем – только со слезами и чувством вины. Аборт решили не делать: мама, мелко крестясь, утверждала, что это страшный грех, а ребеночка уж как-нибудь вырастим, на ноги поставим… ну, и не было денег. Но ставить на ноги ребеночка Соня не стала: отказалась сразу после рождения, и очередной мальчик, покалеченный алкоголем ещё в утробе, оказался в детском доме.
Его не заберут. Он кое-как закончит девять классов, потом пропьет выделенную ему квартиру на окраине и будет слоняться по городу вместе с такими же, как он. Однажды так же засвистит вслед девушке, прячущей длинные волосы под капюшоном черной толстовки, и с «розочкой» из пивной бутылки нетвердо, но упрямо двинется за ней по темному двору. И всё повторится снова. Всегда повторяется.
– Мам, одиннадцать вечера, темно уже, куда я пойду?
– Рецепт в сумочке моей, сходи, пожалуйста…
– Так его ж неделю назад выписали, я тебя еле в больницу затащила! Ты все это время не принимала лекарства?!
– Я всё молилась, доченька, всё молилась о здоровье… Где ж я согрешила-то так… Ой, Господи…
Осень. Вечер. Из маленького телевизора, заботливо накрытого кружевной салфеткой, в унисон со свистом чайника на кухне доносятся крики о загнивающем Западе и бездуховной Америке. Пожилая женщина, лежа на диване, держится за сердце и мелко крестится, бормоча очередную молитву о том, что да простит ее Бог, что это не вера ее ослабла, а просто… Просто дочка ругается, вот и надо за лекарством сходить, чтобы не ругалась, спаси Господь ее душу.
Соне двадцать. Она учится на экономиста в местном вузе, подрабатывает кассиршей в продуктовом и живет с мамой, потому что ей нужен уход и лекарства (хотя порой кажется, что всё это нужно только самой Соне), а денег нет. Отец спился года два назад. Хуже стало или лучше ̶ сложно сказать, но теперь мизерная пенсия тратится не на водку, а на лекарства. О разводе речь никогда не шла: это грех, бог терпел и нам велел и всё такое. Проблемы с сердцем у матери начались довольно давно, но она терпела, молилась и отмалчивалась, пока ее с инфарктом не увезли на скорой. Хорошо, что Соню с пар отпустили пораньше… С огромным трудом удалось уговорить ее сходить к врачу. И тут – на тебе: всё это время рецепт пролеживал на дне сумки!
– Так что, дочь, сходишь до аптеки-то?
Они живут на забытой богом (вопреки всем стараниям матери) окраине, и по-хорошему после восьми вечера на улицу выходить не стоит… Но вдруг утром будет уже поздно? Если уж мама, со всей ее склонностью терпеть и молиться до последнего, просит сходить за лекарством, значит, дело действительно плохо.
– Схожу, схожу.
Тёмные джинсы. Футболка. Черная толстовка. Кроссовки. Смыть макияж, собрать волосы, убрать под капюшон. Что еще… Маленькую поясную сумку надеть через плечо, под кофту, убрать туда телефон, чтобы не светить лишний раз, деньги под чехол… Ключи тоже в сумку… Нет, ключи надо поближе. Мало ли. Давно уже пора перцовку купить… Рецепт! Чуть не забыла. Ну, с богом.
Фонари в их дворе не работают уже очень давно, лампочки менять никто не торопится, как и перекладывать разбитую плитку, халтурно уложенную в рамках какого-то древнего проекта по благоустройству. Это тебе не Москва… Тут и там выбоины, которые нужно старательно обходить даже днем. Как бы ноги не переломать…
Из-за угла раздался противный свист и пьяный хохот. Нет. Нет, нет, нет, нет! Соня, спотыкаясь на разбитой лестнице, ускорила шаг. Парни, достаточно смелые, чтобы выходить из дома в одиннадцать вечера, не натягивают на лицо капюшон толстовки и не держат в кармане судорожно сжатые в кулаке ключи.
– Куда спешишь, красотка? Шамаханская царица, покажи личико!
Сзади, совсем рядом, взрывается хохот. Звенит, разбиваясь о стену пятиэтажки, бутылка, и Соня, даже будучи убежденной атеисткой, готова молиться всем богам, чтобы она, ускоренная адреналином и почти животным страхом за свою жизнь, бежала быстрее, чем эти пьяницы с многолетним стажем. И уже почти у выхода на более-менее освещенную улицу перед ней как из-под земли вырос, пребольно ударившись в колено и заставив притормозить буквально на пару секунд, одинокий столбик. Когда-то он был частью маленького заборчика, огораживающего цветник у подъезда. Недолго простоял…
Истошный крик оборвался сдавленным мычанием. Никто не выйдет. Люди, простые люди, которым завтра к восьми на работу, и так уже засидевшиеся, предпочтут даже не выглядывать в окно, чтобы потом совесть не мучила, а кто-то и вовсе сочтет крики посреди ночи не более чем пьяными воплями и даже не обратит внимания. В паре окон недовольно задернули шторы. Двор окончательно погрузился во тьму.
***
– Здравствуйте, мне, пожалуйста… по рецепту, сейчас… черт… вот, вот он…
Женщина-фармацевт с непониманием, а потом и с откровенным ужасом оглядела мятую бумажку со штампом и подписью, дрожавшую в тонкой руке с обломанными ногтями. Под носом у посетительницы запеклась кровь, спутанные волосы свисали на лицо, но она не обращала на них никакого внимания. Её колотило, как от лихорадки. Пустой взгляд уплывал куда-то в сторону.
– Вам, может, полицию вызвать? Кто это вас…
– Нет-нет-нет, ничего не надо, – как-то судорожно перебила девушка, – еще перекись и бинт… Стерильный…
– Да погодите, я вам так сейчас всё обработаю, вот, идите сюда, ко мне, у меня тут стульчик… Господи… В самом деле, может, вам скорую лучше? Садитесь, садитесь скорее… Сейчас воды налью…
Таких душераздирающих рыданий немолодая уже Мария не слышала никогда. Это была смесь отчаяния, ужаса и безысходности, много лет копившихся в хрупкой искалеченной душе, а сейчас умноженных в десятки раз чем-то по-настоящему страшным. Изломанная, скомканная, съежившаяся на стуле фигура девушки, зажимающей себе рот трясущимися руками, со слезами, льющимися по опухшим от ударов щекам, еще долго стояла у нее перед глазами.
***
В полиции Соню настоятельно попросили не писать заявление: во-первых, «сама виновата, нечего было ночью по улице бродить», во-вторых, «побои надо было сразу снимать и на медэкспертизу идти, сейчас поздно уже», а в-третьих, «как мы их, по-твоему, искать должны без описания – по запаху?» И девушка, с того вечера будто выпавшая в какой-то растерянный транс, вернулась домой почти ни с чем – только со слезами и чувством вины. Аборт решили не делать: мама, мелко крестясь, утверждала, что это страшный грех, а ребеночка уж как-нибудь вырастим, на ноги поставим… ну, и не было денег. Но ставить на ноги ребеночка Соня не стала: отказалась сразу после рождения, и очередной мальчик, покалеченный алкоголем ещё в утробе, оказался в детском доме.
Его не заберут. Он кое-как закончит девять классов, потом пропьет выделенную ему квартиру на окраине и будет слоняться по городу вместе с такими же, как он. Однажды так же засвистит вслед девушке, прячущей длинные волосы под капюшоном черной толстовки, и с «розочкой» из пивной бутылки нетвердо, но упрямо двинется за ней по темному двору. И всё повторится снова. Всегда повторяется.
krapivaJournal@yandex.ru
